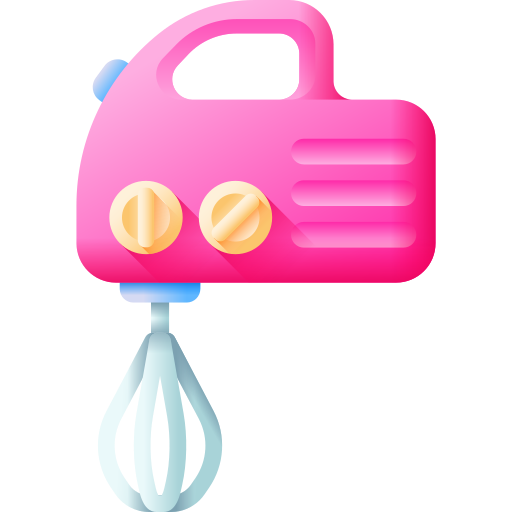В 2020-х годах ощущение непрекращающегося Дня сурка в музыке стало правилом: все песни звучат так, будто их собрали по одному шаблону, а встретить свежую интересную мелодию стало так же реально, как увидеть единорога в лесу. Это не старческое ворчание: количественное исследование Лондонского университета королевы Марии показало, что за последние полвека мелодии упростились по всем возможным метрикам — от диапазона и интервальности до ритмической вариативности.
Как индустрия незаметно вошла в кризис музыкальности, кто и что подпитывает упрощение и стандартизацию творчества, и можно ли вырваться из воронки усреднения — читайте в нашем материале.
ГЛАВНОЕ ИЗ ТЕКСТА
- Музыка упростилась: качество уступило количеству
Исследование Лондонского университета показало падение сложности поп-мелодий по восьми ключевым метрикам. Современные мелодии содержат больше нот в такте, чем когда-либо, но количество не означает качество. - Сложность ≠ продажи
Чем проще стиль, тем выше его средние продажи. Индустрия не стоит на месте: как только в жанре находится «формула успеха», музыка быстро стандартизируется. - Уникальность не нужна
Уникальность текста, аккордов и звучания отрицательно связана с популярностью — вопреки «теории оптимальной самобытности». - Платформы и ИИ усиливают усреднение
Стриминги и соцсети проталкивают трендовые, простые треки. Всё это подкрепляется «ИИ-наводнением» и спорными практиками музыкальных платформ, которые заинтересованы в самоподдерживающемся цикле банальности. - Индустрия оптимизирует музыку
Лейблы и продюсеры следуют плейбуку: быстрый каталог, клипы-шортсы, рекламные вливания, монетизация турами. Всё это продолжает регрессию музыкального содержания.
Услышать в современном цифровом потоке музыки свежую, по-настоящему хорошую мелодию? Встретить единорога в собственном дворе — и то более вероятное событие. Практически в любом жанре современные поп- и рок-песни стали похожи друг на друга до степени смешения: их производят миллионами, в том числе с помощью искусственного интеллекта.
Нет, это не субъективные оценки бумеров, у которых и трава раньше была зеленее, и солнышко светило как-то добрее. Поп-музыка действительно сильно упростилась за последние полвека, чему есть объективные научные доказательства.
В 2024 году Маркус Пирс, Мадлен Гамильтон и сотрудники «Лаборатории музыкального познания» Лондонского университета королевы Марии представили фактически первое в мире не просто гуманитарное, но количественное, математическое исследование сложности популярной музыки за период с 1950-го по 2023 годы.
Оказалось, что поп-музыка за эти полвека стала проще по восьми параметрам, включая падение разнообразия мелодий. Учёные обнаружили, что главные повороты к упрощению произошли в 1975-м и 2000-м годах. В 1996-м было ещё одно уменьшение сложности, но не столь драматичное.
«Золотая эра» мелодий длилась с 1950-го по 1974-й — дальше музыка становилась быстрее и примитивней
Исследователи проанализировали лучшие песни по версии Billboard — в выборку попала 1131 композиция за несколько десятилетий. Для каждого года из периода выбирались пять песен из топ-чартов. В культурном отношении все они были мировыми хитами и оказывали влияние на континенты и страны, так или иначе вовлеченные в потребление Западной массовой культуры.
Основные мелодии хитов были переведены исследователями в MIDI-формат. После этого был написан довольно сложный алгоритм, который оценивал разнообразие мелодий по списку из 16 параметров. На основе этого был создан результирующий набор из восьми характеристик. И по всем из них выявилась… деградация поп-музыки.
Кстати, заодно выяснилось, что большинство песен зачастую содержат в себе от двух до четырёх ярко выраженных мелодий.
Сложность и содержательность мелодий оценивалась двумя способами одновременно:
- в терминах характеристик — например, через диапазон высоты тона, размер интервала изменения высоты тона, плотность нот, изменчивость длительности;
- в терминах теории информации — учитывался статистический анализ высоты тона и времени появления нот в мелодии.
В период с 1950-го по 1974-й годы мелодии обладала относительно высокой информационно-теоретической сложностью. Однако с 1975-го по 1999-й годы их разнообразие значительно снизилось, причём речь идёт не только об общем понижении качества содержания, но и о звуковысотной и ритмической сложности.
Золотая эпоха
По результатам исследования, период между 1950–1974 гг. назвали «Золотой эпохой» мелодии. Так авторы отмечали более высокие сложность и разнообразность музыки в сравнении с другими временными отрезками.
Начиная с 2000 года, мелодии стали ещё проще. В частности, выяснилось, что:
- средний интервал изменения мелодии составил всего два полутона (один тон);
- 2/3 звуков мелодии стали помещаться в диапазон всего 5,5 полутонов (по всей видимости, учитывались и блюзовые ноты);
- в один такт авторы стали засовывать больше нот — в среднем 6,3 против 4,2 в «Золотую эпоху».
Российский композитор и поп-продюсер Олег Шаумаров, работавший среди прочих с Григорием Лепсом и Аллой Пугачевой, однажды сравнил современные мелодии со звуками, которые издаёт муха, когда бьётся в оконное стекло. Довольно меткое наблюдение – в современной музыке мелодии действительно «жужжат» в диапазоне всего в 5-6 полутонов.
Авторы исследования отмечают две основных тенденции:
- за более чем 50 лет мелодии очевидно стали примитивнее (учёные называют это словом «регрессивность»)
- за то же время резко увеличилось количество нот, звучащих в одном такте.
Как мы понимаем, количество здесь не говорит о разнообразии, в одном такте может звучать много одинаковых нот.
Мадлен Гамильтон и Маркус Пирс отдельно оговаривают, что не хотят заявлять, что у слушателей популярной музыки «плохой вкус», или что сама музыка стала «плоха». По их словам, такие суждения портят исследование и выводят его из рамок научного поиска в область субъективизма.
К счастью, мы можем оставить научный поиск за скобками и довериться ощущениям — с современной музыкой действительно что-то не так.
Простота лучше продаётся
Исследование британских учёных не единственное в своём роде — другие работы показали схожие тенденции. Скажем, трое исследователей из Медицинского университета Вены (Австрия) обнаружили, что:
- Изменение сложности музыкального стиля отрицательно коррелирует со средними продажами песен этого стиля. Чем примитивнее и проще стиль, тем более успешно он продаётся.
- Музыканты сначала экспериментируют, повышая инструментальную сложность стиля, но когда они находят, условно говоря, «формулу коммерческого успеха», их стиль становится более стандартизированным: разнообразие падает, однородность — растёт.
- При росте продаж большинство популярных стилей постепенно упрощаются в инструментальной структуре.
- Лишь немногие стили способны долго поддерживать высокий уровень сложности, оставаясь устойчивыми к давлению коммерции.
Уникальность поп-песни создаёт проблемы с её продажами
Коллектив учёных из Университета Мичигана и Университета Индианы в Блумингтоне (США), специализирующихся на информатике и социологии, проанализировал большой массив из 51 000 песен. Их интересовало то, как уникальность треков влияет на их популярность. Оказалось, что плохо.
Исследователи обнаружили, что все факторы уникальности — текст, аккорды, звучание — отрицательно связаны с популярностью песни: при прочих равных получается, что чем уникальнее композиция, тем меньше её популярность.
Долгое время считалось, что массовый слушатель любит баланс между новизной музыки и её похожестью на что-то такое, что уже было услышано ранее. Этот баланс называли «теорией оптимальной самобытности». Однако результаты исследования большого массива данных американскими учёными противоречат этой теории.
Похоже, что массовый слушатель плевать хотел и на уникальность, и на мелодическую свежесть, и на информационную сложность, и на самобытность музыки. Он будет слушать или покупать в том или ином виде усреднённый, хорошо знакомый и простой — вплоть до примитивности — продукт.
Факторы, играющие на стороне деградации
Ну хорошо, хорошо — вслед за корректными учёными назовём это не «деградацией», а «регрессивностью». Тем не менее, на неё работают множество людей, компаний и… роботов.
Недавно музыкальная стриминговая платформа Deezer официально сообщила, что более 28% музыки, ежедневно загружаемой на платформу — это треки, полностью сгенерированные искусственным интеллектом. Это невероятные 30 000 тысяч песен в день.
Deezer заявляет, что удаляет их и не включает в рекомендованные плейлисты. В частности таким образом стриминг пытается сохранить роялти для честных артистов.
Однако Deezer на этом рынке – чуть ли не исключение из правил. К примеру, хорошо всем знакомая Spotify ведёт очень противоречивую политику по отношению к публикации ИИ-музыки. Кроме того, в начале 2025 года выяснилось, что платформа выстроила систему фейковых артистов, за псевдонимами которых скрываются компании дешёвой «производственной музыки», выпекающие очень средненькие треки тысячами.
В итоге на мейджор-платформы валит усреднённый конвейерный контент, в том числе машинно-сгенерированный, вытесняя самобытную музыку настоящих авторов. Массовый слушатель этого не замечает.
Если верить маркетологам и самим музыкальным платформам, алгоритмы стриминговых сервисов и социальных сетей реагируют на поведенческие факторы больших масс людей — все они лайкают понравившиеся треки, добавляют их в свои плейлисты и взаимодействуют с музыкой разными иными способами. Именно так на топовые позиции чартов выносятся сиюминутные, трендовые и очень средненькие треки.
И вроде бы всё хорошо: вкус массового потребителя следует за чартами и слушает то, что сейчас популярно. Однако, как мы уже узнали из процитированных выше исследований, поп-музыка неуклонно упрощается, а коммерческий успех получают именно не самобытные песни. То есть необычная, новая и интересная музыка должна быть не необычной, не новой и не интересной, а простой и понятной — такой, какая сейчас крутится повсюду.
Получается, что всё же не чарты формируют вкус слушателя, а наоборот — непритязательный вкус слушателя формирует чарты.
Определить, где яйцо, а где курица, трудно, но понятно одно — цикл повторяется и повторяется от десятилетия к десятилетию. И, похоже, ведёт нас в дурную бесконечность музыкальной банальщины и пошлости.
Лейблы и музыкальные продюсеры хотят прибыли — зачем им хорошая музыка?
Упоминавшаяся выше «теория оптимальной самобытности» (возможно, неверная, но популярная среди продюсеров) уже принесла много плохого поп-музыке. Коммерческие авторы и лейблы не устают искать универсальный рецепт шлягера, в течение долгого времени пытаясь балансировать между полной банальностью и «оптимальной самобытностью». Неудивительно, что банальности производилось больше, потому что «оптимальность» можно понимать превратно.
Теперь же многие циники, решившие, что ухватили удачу за хвост, осознанно следуют так называемым трендам, какими бы нелепыми и музыкально бедными они ни были.
Популярная схема движения к успеху теперь выглядит примерно так:
- Максимально быстро создать каталог средненьких песен для артиста и начать бомбить аудиторию короткими видео с фрагментами этих треков.
- Как только один из них начинает двигаться вверх — включать поддержку денежными вливаниями в рекламу песни в социальных сетях.
- Когда артист получает каталог из 8-10 треков, среди которых хотя бы один добрался до чартов, его начинают «катать» по мини-турам. Это понятно: до 70% заработка артиста и тех, кто за ним стоит, — это гонорары за концерты.
- Масштабировать проект, чтобы заработать ещё больше.
В этом бизнесе мало кого интересует собственно музыка. Главный предмет волнения — трек взлетел или не взлетел? Если не взлетел, команды артистов максимально быстро переходят к продвижению следующего.
На пятки коммерческому шоу-бизнесу наступают любители срезать углы с помощью ИИ или массового производства инструментальной фоновой «музыки настроения». В этих условиях поп- и рок-музыка, по всей вероятности, продолжат дальнейшую «регрессию». Новые треки станут ещё проще, ещё более похожими друг на друга.
Нельзя сказать, что наука исчерпывающе объяснила феномен драматического упрощения популярной музыки. Существует гипотеза, что процесс связан с тем, что за короткое по историческим меркам время в Интернет получили доступ миллиарды людей из малообразованных социальных слоев. И они стали оказывать огромное влияние на любой публичный дискурс. В том числе — на скромное искусство писать поп-песни.
Люди, ещё 20 лет назад не имевшие возможностей прямо воздействовать на чарты, сегодня непосредственно формируют их своими лайками и другими поведенческими актами в сети. Массовый вкус — как правило, непритязательный — властно диктует музыкальной индустрии, что ей производить.
Тем же авторам и артистам, которые пытаются идти против этого мощного течения, сегодня не позавидуешь. Некоторые из них начинают строить свою маленькую музыкальную экономику вдали от мейнстрима, но это удаётся немногим…